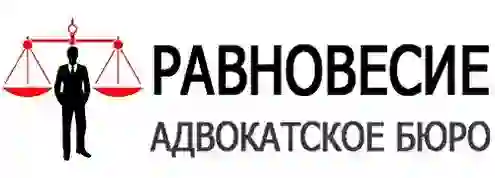Адвокат по делам с наркотиками в Новосибирске

Юридическая помощь по делам связанными с наркотиками
Любому адвокату по уголовным делам часто приходится работать по статье 228 УК РФ и иным статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Лучшие адвокаты в Новосибирске и других городах не всегда берутся за подобные дела, поскольку добиться положительного результата по ним крайне затруднительно.
Для обвинения по статье 228 УК РФ достаточно протокола обыска, в ходе которого обнаружено наркотическое средство. Также вину обвиняемого подтверждают заключением эксперта, которым устанавливается масса и характер вещества. Апелляции к тому, что в свертках отсутствуют отпечатки пальцев обвиняемого, или на смывах с рук нет следов наркотических средств, чаще всего отклоняются судами.
Как защититься по ст. 228 УК РФ
Адвокат по статье 228 УК РФ прежде всего должен попытаться «обезвредить» главное доказательство по делу – материалы оперативно-розыскных мероприятий, приобщенные к делу или протокол обыска. Оснований для признания таких доказательств недопустимыми не так много, но следственные органы продолжают совершать одни и те же ошибки, нарушают инструкции по проведению оперативно-розыскных мероприятий, нарушают порядок приобщения материалов к уголовному делу, проводят обыски с подставными понятыми, в том числе практикантов.
В практике адвокатов по делам с наркотиками к примеру были случаи, когда уголовное дело удавалось прекращать на том основании, что постановление о проведении ОРД подписывал не руководитель, а его заместитель, не исполняющий обязанности руководителя.
Если работа правоохранительных органов проведена без существенных нарушений, цель адвоката по ст. 228 УК РФ добиться минимального наказания. В настоящий момент вполне реально получить условный срок за хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта. За аналогичное преступление в особо крупном размере, лишение свободы фактически гарантировано. Для смягчения наказания адвокат собирает характеризующий материал, выясняет состояние здоровья клиента, мотивы, побудившие его к совершению преступления.
Адвокат по уголовным делам в Новосибирске Шпачинская Елена Григорьевна и ее коллеги имеют большой опыт работы по уголовным делам по статье 228 УК РФ. Если вам нужен адвокат по делам с наркотиками или иным преступлениям вы можете обратиться по телефону, указанному на сайте, или написать на электронную почту.
Адвокат по наркотикам в Новосибирске - ст.228 УК РФ +7(952) 909-66-42.

На сегодняшний день, проблема наркотиков является одной из самых острых и сложных в нашем обществе. Злоупотребление наркотическими веществами несет серьезные социальные, медицинские и правовые последствия. Именно поэтому, существует специализированная категория юристов - адвокаты, которые оказывают юридическую помощь в таких делах.
Перед тем, как рассмотреть роль адвоката по наркотикам, следует сделать ясным понятие наркотиков и наркотических веществ. Наркотики - это вещества, способные вызывать наркотическое состояние, оказывать пагубное воздействие на организм и вызывать злоупотребление. К таким веществам относятся, в том числе, марихуана, кокаин, метамфетамин, героин и другие.
Если подозреваемого задержали по подозрению в сбыте наркотических веществ или совершении других преступлений, связанных с наркотиками, именно адвокат по наркотикам может обеспечить правовую помощь во время всего предварительного следствия. Это включает в себя: сопровождение подозреваемого при проведении допросов, контроль за соблюдением его прав и обязанностей, а также помощь в составлении жалобы на незаконные действия правоохранительных органов.
Важным этапом в деле, связанном с наркотиками, является содержание подозреваемого под стражей. Адвокат по наркотикам может обеспечить отстаивание правил и принципов, которые должны соблюдаться при содержании под стражей. Он будет следить за тем, чтобы подозреваемому были предоставлены необходимые условия для защиты своих интересов, а также протестирование на наличие наркотиков или алкоголя при содержании в местах лишения свободы должно проходить по установленной процедуре.
Адвокат по наркотикам, благодаря своим знаниям и опыту, активно участвует в деле и предоставляет правовую помощь подозреваемому на этапе предварительного следствия. Он анализирует действия правоохранительных органов, их законность и обоснованность, свидетельства, представленные обвинением, а также строит стратегию защиты.
Адвокат по наркотикам занимается разработкой защитной линии, аргументирует независимое мнение о версии событий и предлагает альтернативные факты. Это позволяет обвиняемому доказать свою невиновность или смягчить наказание в случае признания. Благодаря профессиональной работе адвоката по наркотикам, подозреваемый может рассчитывать на наилучший результат в своем деле.
Адвокат по наркотикам в Новосибирске, в зависимости от клиента и обстоятельств дела, может предложить несколько вариантов стратегий защиты. Возможные варианты включают в себя: оспаривание полномочий правоохранительных органов при задержании, анализ доказательной базы обвинения, изучение процедуры обыска и изъятия наркотических веществ и других материалов, а также поддержка при проведении экспертиз и психологических исследований.
В заключение, стоит отметить, что адвокат по наркотикам является неотъемлемой частью системы юридической защиты в делах, связанных с наркотическими веществами. Он обеспечивает законность и соблюдение прав подозреваемого на предварительном следствии, предоставляет квалифицированную юридическую помощь во время всего процесса и наилучшую возможную защиту в суде.
Поэтому, если вы оказались в ситуации, связанной с наркотиками, не стоит стесняться обратиться за помощью к адвокату по наркотикам. Он будет работать на достижение наилучшего результата в вашем деле и защищать ваши права и интересы в соответствии с законом.